Главный закон кибернетиков
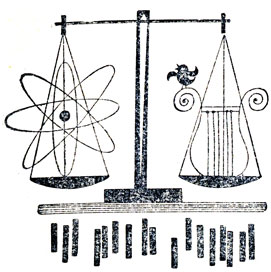
Главный закон кибернетиков
В Киеве с первой же минуты начались суматошные журналистские дни, переходящие в долгие вечера-дискуссии и короткие ночи-передышки. Казалось, специально к нашему приезду стены домов покрылись афишами , приглашающими на лекции, доклады и семинары по кибернетике. Вычислительный центр Академии наук Украины переименовали в Институт кибернетики. Научные журналы словно договорились печатать только те статьи, заглавие которых начиналось со слов: "Применение методов кибернетики к..." Даже в непривычных московскому глазу буквах КИБ на номерных знаках киевских автомобилей как будто таился скрытый намек. И весь город, свежий и зеленый по-майски, виделся нам в те дни городом будущего, столицей кибернетической республики.
С утра мы вдвоем - а иногда и втроем, потому что Олег заинтересовался практическим применением кибернетики,- уезжали по какому-нибудь мудреному адресу. И день проводили то в старом, очень тесном и неуютном здании Института электротехники, то в совсем еще новеньких, просторных и очень современных корпусах Института автоматики или Института кибернетики; то, наконец, по серпантину, ничем не уступающему крымским дорогам, добирались до лаборатории биокибернетики на Байковой горе. Почти всюду мы задерживались допоздна, и удивительно было, что все-таки выбрался вечер, когда все мы впятером по-домашнему собрались в нашем номере.
Непривычное сознание, что нам некуда и незачем лететь сломя голову, наполняло наши души блаженным покоем. И Наташа вдруг сказала:
- Вот и жили бы так всегда! Зачем вы только связались с этой кибернетикой?
- А действительно, как это с вами приключилось? - спросил Андрей.
Мы переглянулись. Совсем недавно, в Москве, Глеб как раз пытался это припомнить.
- Мемуары по твоей части,- сказал Борис.- Рассказывай, я тоже с удовольствием послушаю.
...И правда, всегда приятно восстанавливать в памяти начало важных для тебя событий. Тогда, в 1960 году, нас обоих, молодых инженеров, направили работать техническими переводчиками на Первый Международный конгресс по автоматическому управлению. Он проходил в здании Московского университета. А в те же дни в гостинице "Украина", сидя за столиком бюро обслуживания, Наташа регистрировала прибывающих делегатов и поражала их своим оксфордским произношением. Вечерами дома она водила пальцем по корешкам книг на глебовых полках с технической литературой и медленно приговаривала:
- Честнат - был, Никольс - был, Сторм - был, Винер- тоже был...
- Как это "тоже был"? - закричал Глеб.- Что же ты сразу не сказала? Мы же специально тебя об этом просили!
- Во-первых, перестань кричать, а во-вторых, Норберт Винер завтра в три часа ждет у себя в номере двух молодых советских журналистов.
Это было сильно сказано. До сего момента вся наша журналистская деятельность ограничивалась статьями в стенгазете и служебной перепиской, выдержанной в лучших традициях канцелярского стиля. Решение проинтервьюировать Винера возникло у нас внезапно и родилось из спора - напечатают или не напечатают в солидной газете статью никому не известных авторов, если она будет интересной? Нашим первым творением мы решили порадовать "Литературную газету".
Можно сказать, что с этой авантюры все и началось. Но, говоря по правде, может быть это началось еще лет на пять раньше - в институте. Однажды мы вычитали в философском словаре печально-известное определение кибернетики: "механистическая метафизическая лженаука... по существу своему направлена против материалистической диалектики" - и затерзали нашего лектора по философии бесконечными вопросами. Может быть отсюда все и пошло...
Как бы то ни было, но назавтра мы сидели напротив Випера и держали в руках блокноты.
- По своему отношению к кибернетике,- сказал он,- все люди делятся на три категории: ее сторонники, ее противники и корреспонденты. При этом никто не принес кибернетике столько вреда, сколько журналисты.
И отец кибернетики окинул нас далеко не отцовским взглядом. Мы похолодели: такое вступление не предвещало ничего хорошего. Винер затянулся своей непременной сигарой и добавил, неожиданно улыбнувшись:
- Впрочем, я имею в виду преимущественно французских журналистов...
Первое интервью, как первая любовь, остается в памяти на всю жизнь во всех мельчайших подробностях. Не надо даже закрывать глаза, чтобы живо припомнить лицо Винера в те минуты, когда он говорил о блеске и изяществе, с какими русские математики, от Эйлера до Колмогорова, ставили и решали наиболее острые из предложенных временем задач. Или - когда он рассказывал нам о своем отце и первом учителе, Льве Соломоновиче Винере (выходец из Белостока, он эмигрировал в Америку в 1880 году и всю жизнь оставался горячим пропагандистом русской культуры).
Норберт Винер вспоминал свое детство и годы студенчества. В четырнадцать лет он окончил колледж, в восемнадцать стал доктором философии в Гарвардском университете. А затем, одна за другой, кафедры математики в Старом и Новом свете, лекции на французском, немецком, испанском. Потом уже страсть к изучению самих языков. Датский, итальянский, португальский, китайский, шведский... Всего он овладел тринадцатью и всегда старался говорить с людьми на языке их родины. Но вот русского Норберт Львович (так он сам себя называл) изучить не успел. А между тем, его отец перевел на английский язык многотомное собрание сочинений Льва Толстого! "Дети сапожника всегда ходят босые",- сказал Винер с сожалением. И замолчал, задумался, совсем утонув в кресле и не замечая, как пепел сигары падает ему на брюки...
- Скажите, пожалуйста, кто из советских математиков произвел на вас своими работами наибольшее впечатление?- спросил Глеб. (Это был один из восьми вопросов, приготовленных нами заранее.)
Винер сразу оживился.
- Вот уже тридцать лет, читая труды академика Колмогорова, я чувствую, что это и мои мысли. Это всякий раз то, что я и сам хотел сказать. И я знаю, что такие же чувства испытывает он, читая мои труды. Когда в 1956 году на Всеиндийском конгрессе ученых я беседовал с академиком Соболевым, мы без полемики пришли к очевидному выводу, что тесное сотрудничество приносит огромную пользу. Изучая работы друг друга, мы узнаем, каким путем шел коллега, и, если этот путь оказался ошибочным, избавляемся от необходимости повторять его в свой черед. Если же путь коллеги плодотворен, мы развиваем найденный метод дальше...
Нам казалось, что разговор только-только начался, но Винер уже устал: он сник так же неожиданно, как оживился прежде. Его жена - она все время сидела рядом на диване и вязала, слушая внимательно и немедленно приходя на помощь, если Винер что-нибудь забывал,- вежливо, но настойчиво попросила нас перенести беседу на завтра.
...Когда сдвинулись автоматические двери скоростного лифта, Борис сказал без всякого вступления: "Нам с тобой обязательно надо повстречаться с Колмогоровым". "И с Соболевым",- добавил Глеб, потому что думал о том же самом. Так, в этом стремительно падающем лифте в нас обоих одновременно родились журналисты.
* * *
Наступило завтра. Пришел час второй встречи с Винером. Он выглядел свежим и удивительно молодым. Не ожидая наших вопросов, стал подробно рассказывать о рождении кибернетики.
Тогда, в самом начале войны, американское правительство поручило ему и Джулиану Бигелоу разработать устройство для автоматического управления зенитным огнем. Усовершенствование противовоздушной обороны было в ту пору "задачей номер один": во-первых, Германия захватила господство в воздухе, а во-вторых, скорость самолетов настолько возросла, что стала сравнимой со скоростью артиллерийского снаряда, и это чрезвычайно затрудняло задачу зенитчиков.
Стрелять следовало не в самую цель, а в некоторую, весьма удаленную от нее точку, где, согласно расчетам, должны были встретиться снаряд и самолет. Поэтому надо было, кроме всего прочего, научиться предвидеть реакцию пилота - его обманные движения.
Винер рассказывал нам, как он пытался математически определить наиболее вероятный путь движения самолета при обстреле. Для этого понадобилось накопить большой статистический материал о поведении летчиков в таких грозных условиях. Затем с помощью методов, разработанных Шенноном и Колмогоровым, ему удалось найти способ оптимального предсказания действий пилота после первого разрыва снаряда вблизи летящей машины. Было очевидно, что в напряженном бою летчик едва ли станет глубоко анализировать обстановку. Скорее всего, он просто начнет выполнять те фигуры высшего пилотажа и противозенитные маневры, которым его заранее обучили. Значит, в его действиях сказывается некоторая программа. Ее следовало уловить. Винер и Бигелоу поставили перед собой задачу: математически описать действия наводчика зенитного орудия и летчика в бою. Они выполнили задуманное, но, разумеется, весьма и весьма упрощенно. Однако мысли, осенившие их в процессе работы, оказались очень плодотворными.
Возникли аналогии между деятельностью нервной системы и работой вычислительных машин. Винер рассказал об этих идеях своему старому другу - физиологу Артуро Розенблюту. Обнаружилось, что в нейрофизиологии нередко возникают в сущности те же проблемы, что и при создании автоматических систем. Подтверждалась мысль, к которой Винер и Розенблют пришли уже давно: в науке наиболее перспективны пограничные области знания - "ничейная территория" между уже сложившимися научными дисциплинами. На пограничной полосе между математикой, вычислительной техникой и нейрофизиологией стала зарождаться новая наука - кибернетика, основанная на глубоком сходстве принципов связи и управления в машинах и в живой ткани.
Возраст кибернетики, видимо, официально следует отсчитывать с 1943 года - со дня появления совместной статьи Розенблюта, Винера и Бигелоу "Поведение, цель и телеология" в журнале "Философия науки". Но само название "кибернетика" появилось лишь спустя четыре года.
...Для нас звучал совсем необычно этот почти хрестоматийный рассказ, потому что велся он от первого лица. "Мы, по примеру других ученых, были вынуждены придумать неогреческое слово, чтобы дать название нашей науке". Согласитесь, это звучит совсем не буднично.
Однако Винер рассказывал не только то, что нам уже было известно. Мы читали, конечно и "Кибернетику" и "Кибернетику и общество", слышали и о двух его автобиографических книгах - "Бывший вундеркинд" и "Я - математик". Но названия "Искуситель" и "То, что под камнем" прозвучали для нас впервые. Винер с видимым удовольствием говорил о своей литературной деятельности.
- В свободные часы я - писатель. Это не только отдых. Формирование характеров под влиянием различных жизненных обстоятельств, судьбы людей всегда интересовали меня.
Он кратко пересказывал нам содержание обоих своих романов, и было удивительно интересно следить, как отразились в них его собственная жизнь и его мысли. Слова, стоящие на титульном листе "Искусителя": "Тем ученым, которые предпочитают искать истину, а не земные блага". Главный герой - Грегори Джеймс, армянин, родившийся в Одессе и эмигрировавший в Америку до первой мировой войны. Во втором, еще неопубликованном романе "То, что под камнем" - рассказ об эксплуатации одаренных детей.
Как много во всем этом от самого Винера!
Он был полон энтузиазма, повествуя о своих писательских делах. И тем острее почувствовали мы, как он помрачнел, когда зашла речь о перспективах кибернетики. Чувствовалось, что он неспокоен за будущее своего детища. Винер как-то вжался в кресло и стал говорить медленно, осторожно подбирая слова, и равномерно - в такт речи - ударяя рукой по подлокотнику:
- Человек придает кибернетическим машинам способность творить и создает себе этим могучего помощника. Но именно здесь и таится опасность, которая может возникнуть уже в самом недалеком будущем. Дело в том, что, задавая машине программу, мы ожидаем от нее действий в соответствии с этой программой. Действия эти настолько сложны и настолько близки к творческой деятельности человека, что малейшая неточность в задающей программе может привести к совершенно неожиданным последствиям...
И чтобы пояснить свою мысль, Винер вспомнил фантастический рассказ Джакобса о сержанте-ирландце, вернувшемся домой из далекой восточной страны. Он привез оттуда амулет - высохшую обезьянью лапку. Стоило лишь потереть ее, и сбывались любые три желания. Однажды старый приятель сержанта решил испытать силу талисмана. Он потребовал двести фунтов стерлингов. И, разумеется, получил их. Но только в виде страховой премии за жизнь своего погибшего сына. Тогда в отчаянии он закричал, что ему не нужно никаких денег - лишь бы только слышать голос сына! И поскольку он так же неточно сформулировал свое второе желание, как и первое, раздался стук в дверь и перед ним явился призрак, говоривший голосом умершего. Третьим и последним желанием убитого горем отца была просьба, чтобы призрак исчез.
- Как видно,- резюмировал Винер,- мы далеко не всегда умеем высказать то, чего хотим, потому что не всегда нам удается заранее угадать, какие непредвиденные события будут сопутствовать исполнению нашего желания. Машины способны воспринимать наши требования лишь в буквальном смысле, и за рискованные эксперименты с ними мы можем поплатиться внезапной, всеобщей и непоправимой бедой. Под "рискованными экспериментами" я понимаю в данном случае вполне определенную вещь: планирование третьей мировой войны с помощью современных обучающихся машин. Нет ничего более опасного для человечества, чем их бесконтрольное использование в таком страшном деле. Снова и снова приходится мне слышать утверждение, что никакая кибернетическая машина не способна создать для нас дополнительной опасности, потому что в решительный момент мы сможем ее просто выключить. Но уже сама скорость работы современных вычислительных машин заставляет думать иначе. Легко представить себе, что мы окажемся не в состоянии своевременно почувствовать и осознать надвигающуюся опасность. Если просить от машины победы, не зная в точности, что под этим подразумевается, не исключена вероятность, что в нашу дверь постучится призрак. Но в этом печальном случае исполнить третье желание будет уже невозможно...
Винер посмотрел на Бориса, очевидно, заметив, что тот не успевает следить за быстрой английской речью. Улыбнувшись, он заговорил по-немецки:
- Задаваемая машине программа должна быть кристально ясной. В ней необходимо предусмотреть все, что может произойти при решении задачи. При этом никак нельзя упускать из виду следующее обстоятельство. Чем шире творческие возможности, которыми наделяется машина, тем меньше она склонна подчиняться безусловному приказу. Совсем как у людей: чем выше интеллект человека, тем ненавистней ему диктат. Мне это кажется очевидным. Отсюда следует вывод: сложной машиной сложно и управлять!..
- И тут возникает,- продолжал Винер,- чрезвычайно любопытная ситуация. Ведь мы рассматриваем "думающие" машины как своих "механических рабов". Наша цель - сочетать два требования: с одной стороны, "раб" должен быть умным, а с другой - послушным. Эти условия противоречивы. Полностью удовлетворить одному из них - значит не выполнить другого. Конечно, термин "рабство" я употребил фигурально. Впрочем, мы ведь хотим переложить на плечи машины изрядную часть своего труда, причем самую неблагодарную. Как легко заметить, именно так поступал в древние времена рабовладелец по отношению к рабу. В будущем, имея дело с очень сложными и совершенными машинами, мы обнаружим, что человек, управляющий машиной, в чем-то уподобится человеку, безраздельно повелевающему другим человеком. А это уже проблема морального плана. Мы окажемся в положении Пигмалиона. И нельзя заранее предугадать, какие отношения сложатся у нас с новой Галатеей...
У Винера нашлась для иллюстрации его мысли старая немецкая сказка - известная гётевская история о ленивом ученике волшебника, который велел волшебной метле натаскать за него воды. Но лентяй не знал нужного слова, чтобы остановить ее. Когда дом уже был затоплен, ученик сломал метлу пополам. И тогда вместо одной две метлы стали носить воду. Лишь приход волшебника, знавшего заветное слово, предотвратил всеобщий потоп.
- Так будет ли человек всегда знать это заветное слово, вот в чем вопрос!-закончил свою мысль Винер, и нельзя было не заметить его взволнованности и удрученности.
Он посмотрел на жену, как бы ища у нее поддержки. Она уже давно отложила в сторону вязанье и придвинула свой стул совсем близко. В ее глазах, когда она встретила взгляд Винера, я увидел и боль, и понимание, и согласие, и несогласие - все, что может подарить один человек Другому, когда тяжелые мысли завладевают обоими. Они довольно долго глядели друг на друга - уже старые, седые люди. И вдруг вспомнились и впервые стали понятны слова посвящения на первой странице автобиографии Винера: "Моей жене, под чьей великодушной опекой я впервые познал свободу". И мы уже видели не просто седую, усталую женщину - перед нами сидела, сложив руки на коленях, сама Совесть ученого, которой он посвятил свою книгу и которому она посвятила свою жизнь. Нет, она не стремилась отвлекать Винера от горестных мыслей или утешать его - она хотела делить с ним все его сомнения, раздумья, добрые и мрачные предвидения.
...Очевидно, все последние годы Норберт Винер много думал о перспективах развития кибернетики, и они виделись ему в невеселом свете. Человек огромной эрудиции, он собрал легенды и сказки чуть ли не на всех известных ему тринадцати языках, чтобы сделать образно доказательной свою мысль о возможном выходе машин из-под контроля людей. Для каждого у него есть в запасе своя история. Так, Эрнсту Кольману, бывшему тогда директором чехословацкого института философии, он рассказал средневековую легенду о пражском раввине Льве бен Бецалеле, который создал глиняного голема и умел оживлять его, вкладывая Голему в рот записку с кабаллистическим именем божьим. Однажды он ушел, позабыв вынуть записку. Голем, который был задуман как дровосек и водонос, разрубил в доме все, что подвернулось под руку, а потом стал заливать водой уцелевшее. Чтобы в будущем не случилось чего-нибудь похуже, раввину пришлось уничтожить своего глиняного раба.
Видимо, прав Кольман, полагая, что Норберт Винер хотел бы как-нибудь замедлить или даже остановить рост рожденного им "голема" - кибернетики...
Помню, мы расстались с Винером, испытывая смешанное чувство: к восхищению прибавилось какое-то печальное недоумение. Или, может быть, точнее: сочувствие, сожале4 ние. Слишком уж безрадостным виделось ученому будущее его науки.
А конгресс ИФАКа* шел своим чередом.
*(Международная федерация по автоматическому управлению - International Federation of Automatic Control - сокращенно IFAC, по-русски - ИФАК. )
Июль истекал солнцем, и в прохладных университетских аудиториях на Ленинских горах от возбуждения, непрерывных дискуссий, научных споров тоже становилось жарко. Доклады кибернетиков покоряли воображение видавших виды ученых.
Только что смолкли аплодисменты, выпавшие на долю доктора технических наук Арона Ефимовича Кобринского: он продемонстрировал протез руки, управляемый биотоками; человек с таким протезом написал мелом на доске - "Привет участникам конгресса". И вот мы уже слушаем новый доклад.
На кафедре - американский ученый Манфред Клайнс. Большая аудитория заполнена до предела - люди стоят в проходах, теснятся у дверей. Замолкают в наушниках слова перевода. Клайнс отодвигает в сторону листки и включает проектор. В зале гаснет свет. На экране перья двух самописцев отмечают удары живого человеческого сердца и удары, предсказанные вычислительным устройством ? по "закону Клайнса". (Это первый закон биокибернетики, открытый с помощью вычислительной машины. Он показывает математическую связь между биением сердца и работой легких.) Совпадение такое, что захватывает дух. В глубокой тишине зала грохочут усиленные во много раз удары сердца: быстрее, медленнее, быстрее, быстрее, медленнее. И в этом же самом ритме на ленте самописца, работающего от вычислительного устройства, возникают всплески: удар, удар, пауза, удар, удар... Казалось, этот ритм захватывает и наши сердца, не отпускает, ведет за собой.
...Потом снова зажегся свет. Люди постепенно приходили в себя. А за кафедрой стоял совсем еще молодой человек и, сняв очки, читал вдохновенные строки гётевского
Фауста:
...В горах Давно покинув плоские равнины, С любовью духи поселились; там, В тиши, заняв ущелья и теснины, Работают они по всем местам, Средь атмосферы газов благородных, Среди паров металлов самородных, Дробя, связуя, находя пути. Их цель одна лишь: новое найти.
"Так будем же соревноваться с гномами в познании тайн напито мира!" - эти заключительные слова доклада потонули в овациях зала. Мы поспешили к Клайнсу, чтобы договориться с ним о встрече.
Вечером мы сидели вчетвером в гостинице "Украина". Вопросов задавать почти не приходилось: Глеб еле успевал записывать то, что рассказывал Клайнс. Наташа переводила для Бориса, и он тоже делал заметки в блокноте.
Манфреду Клайнсу 33 года. Выглядел же он еще моложе - высокий, стройный, очень спортивный. Да, разумеется, это не случайность, что он кончил свой доклад стихами Гёте: он вообще не мыслит свою жизнь и работу без искусства, литературы и особенно музыки. Почему "особенно музыки"? Дело в том, что Клайнс по образованию музыкант. Еще в родной Вене, а потом в Мельбурне, куда его семья бежала от гитлеровцев, Клайнс жил в музыкальной атмосфере. Он закончил Мельбурнский университет, стал не только инженером, но и незаурядным пианистом. Клайнс выдержал конкурсные испытания в Джульярдской школе в Нью-Йорке, в той самой, где учился и Ван Клиберн, и с блеском ее закончил. Концерты в Америке, турне по Европе. Успех, который достается лишь немногим пианистам. Письмо Альберта Эйнштейна: "В Вашем искусстве сочетается ясное понимание внутренней структуры музыки с редкой выразительностью, а несомненное мастерство никогда не превалирует над артистичностью".
Слава, триумф и... Клайнс снова берется за математику и теорию регулирования. Работает сначала над управляемыми ракетами, затем над применением теории регулирования к изучению человеческого организма. "Мне казалось, в этой области я смогу сделать кое-что полезное людям". Исследовательская работа по биокибернетике. Наконец, место главного научного сотрудника по кибернетике в громадной Роклендской больнице, одной из крупнейших психиатрических лечебниц Америки. - Там я теперь и работаю. Там мне и удалось открыть свой закон - найти строгую математическую зависимость между частотой биения сердца и расширением грудной клетки при дыхании.
Клайнс сказал это таким тоном, каким говорят: "Я закинул подряд три мяча в корзину". Словно и не было бесчисленных историй болезней, сложнейших экспериментов в лаборатории, бессонных ночей и бесконечных расчетов, выкладок, формул, графиков, диаграмм. И снова - ночного бдения в больничной палате вместе с чуткими электронными приборами. Обо всем этом Манфред Клайнс говорил как бы между прочим. Ученому, как правило, трудно объяснить ход своей мысли - сам процесс творчества. Впрочем, и художник не вспомнит последовательность, в какой ложились на холст мазки, и поэт не сумеет указать момент, когда зазвучал в нем ритм стиха...
- Я не понимаю, что значит "тяжелая кропотливая работа". Она может быть интересной или неинтересной - вот и все! - так, примерно, отвечал Клайнс на наши расспросы.
- Моя работа меня чрезвычайно увлекает. Что еще прибавить?.. Биокибернетика относится к физиологии, как математика - к физике. В живом человеческом организме-целая иерархия систем управления. Взаимосвязи и взаимодействия их пока еще далеко не ясны. И нам приходится изучать каждую систему в отдельности. Однако в строении разных систем есть и много общего. Например, закон, связывающий биение сердца с дыханием, может быть применен и для описания других физиологических явлений. Конечно, делать это следует с большой осторожностью. Вот представьте себе, что вы хотите получить функцию...
И Клайнс начал излагать нам нечто, обещавшее пора-вить наши молодые кибернетические души. Но Глеб его перебил - и до сих пор он не может себе этого простить! - перебил, потому что ему в ту минуту вдруг всего интересней показался сам Манфред Клайнс, пианист-виртуоз и одновременно ученый-эрудит. Глеб невпопад спросил его: "А как же музыка?" Неужели, подумалось ему, Клайнс навсегда оставил ее ради кибернетики? Неужели тощий, змеевидный интеграл окончательно восторжествовал над скрипичным ключом?
- Что вы, я и не собирался отказываться от музыки,-" удивленно сказал Клайнс.- Всего несколько месяцев назад состоялся мой концерт в Ройал фестивал-холл.
- Но чтобы выступать в самом большом лондонском вале перед столь искушенной публикой вам, разумеется, нужно было долго и упорно...
Глеб не договорил. Клайнс уже отвечал на его банальнейший вопрос:
- Но музыка никогда не мешала моей работе! Наоборот, она развивает тонкость восприятия и глубину чувств, а именно эти качества наряду с талантом и целеустремленностью рождают истинного ученого. Я всю жизнь пытаюсь стать разносторонне образованным человеком, потому что узкий, ограниченный специалист едва ли может сказать стоящее слово в науке. Духовные ценности великой музыки - Бах, Моцарт, Бетховен,- пожалуй, не менее важны, чем наши научные достижения...
Наташа, помнится, еще долго переводила вопросы Бориса и ответы Клайнса, но Глеб уже не мог сосредоточенно слушать: неожиданная мысль пришла ему в голову и не давала думать ни о чем другом. Случайность ли это, что Винер пишет романы, а Клайнс дает концерты? Почему во время наших бесед с обоими кибернетиками они так много говорили об искусстве? Есть ли какая-нибудь логика в решении Клайнса вдруг, в расцвете музыкальной карьеры, заняться математикой и современной тонкой техникой? На эти мысли Глеба, видимо, натолкнули нескончаемые споры о пресловутой проблеме "физиков" и "лириков". Совсем недавно он с пеной у рта доказывал в нашей лаборатории, что один и тот же человек может с равным успехом играть на арфе и составлять технические проекты. И вот он держит в руках два сокрушительных аргумента в свою пользу! Но, может быть, думалось ему теперь, для истинного кибернетика эта игра на арфе - не возможность, а необходимость? Может быть, искусство для кибернетика - стартовая площадка или незаменимый инструмент - в общем, нечто, без чего не взлететь ракете, не родиться вещи, не случиться поиску и не бывать находке? То есть, говоря попросту, может быть, в природе существует пока еще никем не открытый закон: "Чтобы стать кибернетиком, надо быть как дома в тех мирах, где все определяется чувством и интуицией"?!
И невольно пришла на память строчка из бесчисленных инструкций, прочитанных на работе: "Согласно Положению об открытиях, открытием признается установление неизвестных ранее, объективно существующих, закономерностей, свойств и явлений материального мира". Прозаическое дело. И вдруг - искусство!
В тот же вечер Глеб сбивчиво и путанно, но с большим жаром излагал свою мысль Наташе и Борису. Жена, как обычно, отнеслась к его очередной идее крайне скептически, но соавтор, против обыкновения, не стал сразу выдвигать встречную теорию. Он внимательно выслушал Глебовы догадки и одобрительно сказал: "А знаешь, ты это верно подметил. И, если вдуматься, тут есть свой смысл. Кибернетика занимается такими тонкими вопросами, что требует точнейших методов анализа, а что же, как не развитое чутье художника, способно их отточить, придать им изящество, виртуозность? И, с другой стороны, поскольку кибернетика возникает и развивается на стыках между науками, ей особенно нужна широта мысли и смелость обобщений - а именно этому и учит искусство. Ассоциативное мышление ученого, занимающегося такой наукой, как кибернетика или математика, родственно поэтическому восприятию мира. Недаром ведь сказал об одном из своих учеников известный математик Давид Гильберт: "Он стал поэтом: для занятий математикой у него слишком мало воображения".
Мы оба почувствовали себя открывателями нового закона. Вспомнили, как Клайнс специально на несколько месяцев уединился в Скалистых горах, чтобы разучить сложнейшую вещь Баха, которую уже несколько десятков лет никто не решался исполнять. Это ли не пример для исследователя - упорный труд, полнейшая сосредоточенность, отрешенность от всего мира ради осуществления своего замысла? И восторг тех, кто слушает твою игру,- разве это недостаточный эквивалент радости научного открытия?
Мы все больше убеждались в том, что путь к математическим вершинам кибернетики непременно проходит через гуманитарные леса или, хотя бы, перелески. Эту свою гипотезу мы могли развивать без конца, но чтобы она стала теорией, нужны были дополнительные факты. Если Винер - прославленный математик и признанный отец кибернетики - к тому же еще писатель и полиглот, а Клайнса-кибернетика почти невозможно отделить от Клайнса-музыканта, то, видимо, что-то подобное - по нашей гипотезе - должны являть собою и отечественные кибернетики.
Уже после беседы с Винером мы загорелись желанием познакомиться с Колмогоровым и Соболевым. Прошло время, и вот подвернулся удачный случай.
* * *
Мы стояли в малом зале Дома литераторов, прислонившись к стене,- лишний стул уже некуда было поставить - и, дожидаясь начала лекции, осматривались вокруг. Высокий процент облысевших и убеленных сединами голов свидетельствовал о серьезности и представительности собрания. А живописные группы студенток с восхитительными челками и юнцов в тщательно измятых брюках с такой же несомненностью свидетельствовали об актуальности, новизне и смелости темы доклада.
"Математический анализ стиха"!
Это звучит сенсационно даже для людей второй половины XX века, чувство удивления у которых уже почти полностью атрофировано. И когда писатель Даниил Данин представил собравшимся литераторам академика Андрея Николаевича Колмогорова, в устремленных на лектора взглядах можно было прочесть все, что угодно, только не равнодушие.
Теперь не вспомнишь, с чего Колмогоров начал свою речь - последующие впечатления того вечера вытеснили это из памяти.
Слишком уж все было неожиданно. С одной стороны - привычная, наша, инженерная и математическая терминология, графики, подсчеты, статистика... Одним словом, старая институтская атмосфера лекции по теории регулирования. А с другой стороны - одно за другим называемые имена с. детства знакомых поэтов и - стихи, стихи, стихи - те, что забыть нельзя, и те, что уже стерлись в памяти, и даже такие, что прозвучали для нас впервые. Колмогоров - седой, худощавый, делал несколько быстрых шагов к маленькому переносному экрану и обратно, и, почти положив голову на одно плечо, с явным, нескрываемым наслаждением, нараспев, повторяя несколько раз полюбившиеся ему строки, цитировал Пушкина, Лермонтова, Полежаева, Багрицкого, Маяковского, Блока. Врезалось в память, как он смаковал онегинские строфы и особенно часто возвращался к ритмическому своеобразию одной фразы: "И кланялся непринужденно".
Поначалу трудно было следить за мыслью Колмогорова. Математика и поэзия воспринимались совершенно несвязанно, отдельно одна от другой. "Пушкин сдвигает частоты...", "Если энтропия на весь стих, написанный четырехстопным ямбом, составляет 50 бит, то на рифму, идет 6 бит..." - такие и подобные фразы не укладывались в сознании и заставляли оглядываться вокруг: "Интересно, а какое впечатление производят они на соседей?" После демонстрации на экране каждой новой кривой, когда в зале снова включали свет, несколько мест оказывались пустыми. Очень скоро мы уже сидели с комфортом, положив портфели на соседний стул. И вот, словно дождавшись, пока уйдут те, кого привела на лекцию одна лишь жажда сенсации, Колмогоров оставил проектор и, можно сказать, начал говорить заново! о том же, но теперь уже совсем по-другому. Мы нимало бы не удивились, узнав, что он специально построил так свой доклад. В конце концов стоит ли, действительно, рассказывать о математическом анализе стиха людям, которые не хотят - или не могут - разобраться даже в самых простых и интересных графиках?
Так или иначе, но нам вдруг стала отчетливо ясной каждая его мысль - иногда парадоксальная, временами спорная, но всегда будоражащая и великолепно сформулированная.
Мы безошибочно отличаем ямб Пушкина от ямба Багрицкого - так непохожи они один на другой. Но что значит "непохожи?" Можно ли количественно оценить степень этого несходства? Ортодоксальное стиховедение отвечает на этот вопрос отрицательно. Оно воспринимает его чуть ли не как оскорбление: высокая поэзия и меркантильная цифирь! Но ведь к исследованию стиха не менее, чем к любой другой науке, применимы слова Маркса о том, что наука тогда лишь достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой. Связать поэзию с математикой пытались многие - например, Андрей Белый, Шенгели, Томашевский, но их опыты оказались неудачными. Слишком уж редкого стечения обстоятельств требует эта сложная задача: тонкий ценитель стиха, чувствующий малейшие нюансы музыкального строя, должен сочетаться в исследователе с математиком-виртуозом, владеющим бесчисленными приемами этой всемогущей науки. Андрей Николаевич Колмогоров обладает этими качествами в самой высокой степени, какая только может быть отпущена природой человеку.
До сих пор большинство своих выводов стиховед мог подкрепить лишь более или менее убедительными соображениями чисто субъективного характера. Теперь же поэзия получает в свои руки объективный критерий - четкий математический анализ. "Я очень надеюсь,- говорил Колмогоров в тот вечер,- что в этой аудитории наши опыты найдут понимание и сочувствие людей, непосредственно знакомых с поэтической практикой. И, я думаю, даже от теоретиков-стиховедов мне не придется в очередной раз слышать о "бухгалтерском подходе к поэзии". Мы абсолютно уверены, что сегодня без математики стиховедение уже не может быть состоятельным".
Колмогоров замолчал и сделал рукой свой непередаваемый жест, как бы приглашая поспорить с ним. Но поскольку никто не обнаружил такого желания, Андрей Николаевич продолжал развивать свою мысль. Он говорил, прохаживаясь перед экраном, неожиданно останавливаясь и также неожиданно делая несколько быстрых, решительных шагов. Обаяние его манеры излагать свои мысли было настолько велико, что казалось, по-другому высказать их было просто невозможно.
Теперь вспоминая обо всем этом в киевской гостинице, Глеб невольно пытался подражать неповторимой манере речи Андрея Николаевича, хотя и понимал, как трудно передать ее.
Конечно, сделать стиховедение точной математической наукой - само по себе дело немалое. Цель, вполне достойная, чтобы не жалеть для нее труда. Но ведь стиховедческие изыскания Колмогорова можно рассматривать и под иным углом зрения: как вполне серьезное намерение привлечь эту маленькую науку на службу большому делу. Знания о глубинных процессах поэтического творчества, безусловно, окажутся полезными - например при изучении и моделировании интуиции. И если Андрей Николаевич сегодня подчеркнуто иронически относится к разговорам о "прямой пользе" математического стиховедения для конструирования мыслящих и творящих машин, то, наверное, потому, что яснее других видит бесчисленные преграды на этом пути...
Могут спросить: а почему для изучения взят именно стих, а, скажем, не музыка или живопись? Тут сказались естественные склонности Андрея Николаевича и его помощников. Дело, однако, еще и в том, что в стихе все наглядно объективизировано. Его структура легче поддается анализу. Ценители музыки знают, как много значит, где и кем исполняется данное произведение. Стих же существует сам по себе, и поэтому вместе с черновиками поэта он представляет собой отличный лабораторный объект для исследований. "Подопытный кролик с дальним прицелом", как выразился поэт Семен Кирсанов, бывший в тот вечер в зале Дома литераторов.
Изучая черновики стихов, можно увидеть, как безошибочно ведет руку поэта внутреннее чувство стиха, тот "гул-ритм", о котором говорил Маяковский. Одно слово заменяется другим, целые новые строфы по воле автора приходят на смену безжалостно вычеркнутым, но ритмическое звучание стиха остается все тем же. Поэт вкладывает в сложившуюся у него в подсознании своеобразную ритмическую решетку все новые и новые слова, бессознательно подбирает такие, чтобы чередование ударных и безударных слогов отвечало тому образу метра стиха, что звучит у него в голове. "Гоним бичами ямба",- сказал о себе Блок. Но как встречаются вместе в стихотворной строке слова, хранящиеся, казалось бы, в самых далеких друг от друга закоулках памяти? Это пока непонятно.
"Поэзия - вся - езда в незнаемое". Знание не заменяет интуиции. Это верно вообще, а для поэта в особенности. Почему то или иное созвучие, переплетение образов, чередование ритмов хорошо, а другое - плохо? Тут работает бесконечно сложный механизм сознательного и подсознательного поиска, отбора, принятия решения. Ученому этот труд тоже родствен. Очень часто, решая свои научные проблемы, он выбирает определенное направление хода мысли лишь потому, что наметившееся сцепление идей кажется ему красивым, обещающим или необычным. Но это и есть чистая интуиция в действии. Тут работа ученого близка труду поэта, и вообще любому процессу художественного творчества. Но как изучать такую тонкую вещь, как интуиция? Нужен лабораторный объект. А где, позвольте спросить, его взять?
И Колмогоров снова застыл на несколько мгновений, склонив на бок седую голову. Он искоса победно оглядывал зал, словно торжествуя, что столь легко и просто загнал нас и себя в такой безвыходный тупик. Потом вновь заговорил, но, казалось бы, совсем не на тему. Однако мы уже научились понимать его своеобразную логику.
Были у нас знаменитые синоптики. Мультановский, например, хранил в памяти огромное количество сведений о различных метеорологических ситуациях, и его "пророчества" очень часто оказывались верными. Но сегодня даже самые многоопытные синоптики вынуждены пасовать перед возможностями вычислительных машин. Если в предсказаниях нашей "наземной" погоды между ними и машинами пока еще существует приблизительное равенство, люди обязаны этим только своей интуиции. Той, что выработалась у них за долгие годы работы с температурами, давлениями, циклонами и антициклонами.
Движение мысли Андрея Николаевича было сложным, но ясным.
...Итак, снова интуиция. Неосознанный опыт - те образы действительности, что возникают у нас как бы сами собой. Образ прекрасного, скажем. Или проще - образ человека, собаки, кошки... Как постигает ребенок искусство узнавать кошку - всегда и всюду: на картинке и в жизни, пеструю и черно-белую, большую и маленькую? Вот область, где. человек далеко опередил машину. В более простых вещах человек уже отстал. Действительно, хотя человеческая память и велика, но машина намного лучше умеет "выцарапывать" нужный материал. Да и по емкости своей памяти она уже вполне может конкурировать с людьми. А по числу операций в секунду людям за ней, как правило, не угнаться. Если кому-либо не нравится выражение "число операций", пожалуйста, его можно заменить словами "по быстроте мышления", хотя это и не совсем строго. В смысле хранения информации и ее передачи, будущее - у машины. А интуиция, образы - это ей еще недоступно.
Исследованием трудноуловимых закономерностей, стоящих за этими понятиями, и занимается Андрей Николаевич.
Многие литературоведы встречают в штыки все попытки изучения поэзии с математических и кибернетических позиций. Подобные наскоки чаще всего идут просто от незнания смысла работ Колмогорова и его школы стиховедения или же из-за того, что "нападающих" кто-то дезинформировал. "Однажды,- рассказывал Андрей Николаевич,--мне попалась статья, где было написано, будто я нашел способ оценить гениальность Пушкина числом ноль целых четыре десятых... Только очень неосведомленные люди могли опубликовать такой абсурд и дичь! Зачем понадобилось это делать,- для меня вопрос неразрешимый..."
Колмогоров, стремительный, очень подвижный, несколько раз быстро прошелся вдоль экрана, не произнося ни слова. Видимо, он обдумывал новый "заход" на тему, и мысль его делала новый вираж. А, может быть, вспоминал он бесчисленные атаки литературоведов на труды его школы по математическому анализу стиха. Когда же он заговорил, все почувствовали, что ему хочется рассказать о самом существе своих исканий. И хотя все оставались там, где сидели, казалось, будто слушатели подтянулись к нему, как бы теснее смыкая круг.
"Вы, наверное, догадались, что я немного интересуюсь литературой,- с улыбкой сказал Андрей Николаевич и подождал, пока стихнет оживление в зале.- Но когда я становлюсь кибернетиком и пытаюсь подходить к стиховедению с позиций этой науки, мне приходится выбирать какую-нибудь небольшую часть поэтических приемов, чтобы исследовать ее нашими методами".
Колмогоров выбрал ритмику стиха. Это лишь маленькая доля выразительных средств поэта и, быть, может, не имеющая решающего значения, но, изучая ее, можно довольно глубоко проникнуть в подсознательную сферу творчества. Ритмический, звуковой строй можно и обязательно нужно исследовать математическими методами - в первую очередь с помощью статистики и теории вероятности. Занятие это, кроме всего прочего, приносит особое удовольствие и удовлетворение, но, разумеется, требует и особого чувства стиха. И, конечно, энтузиазма. "Я не хочу заразить всех математиков или всех литературоведов желанием посвятить себя математической лингвистике - это было бы плохо в социальном отношении,- снова улыбнулся Колмогоров,- но разъяснять смысл наших работ считаю своим прямым и приятным долгом".
Колмогоров заговорил о деталях своего метода анализа поэтических текстов. Углубился в новое понятие "энтропии речи". Сравнивал ритмы разных произведений. Делал неожиданные выводы, строил смелые предположения, шутил, иногда не без сарказма... Но для нас главной была атмосфера этой встречи, когда литераторы принимали у себя дома кибернетику. Мы вдруг почувствовали, что наша гипотеза, родившаяся в минуты общения с Винером и Клайнсом, это, право же, строгий, неизбежный закон. Мы пошептались, сидя в зале, и тут же сформулировали его еще точнее и определеннее, чем раньше: "Всякий настоящий кибернетик обязательно должен быть не дилетантом, а истинным знатоком искусства и должен быть тесно связан с ним, если не в своей работе, то в жизни".
* * *
Казалось, все сомнения отпали. Мы уже почти серьезно подумывали, куда нам "тиснуть" статейку о своем открытии. И вдруг, как это бывает со всякой великой теорией, наступил кризис. Все пошло прахом - выводы оказались ложными.
Произошло это так.
В "Литературной газете" должен был появиться выпад одного литературоведа против "еретических идей" кибернетики, на этот раз не только против исследований стиха с ее помощью, а и вообще против широких притязаний кибернетики. Известный литературовед Б. назвал свою статью "Товарищи, вы это серьезно?" и без тени юмора, хотя и с большим количеством острот, старался представить кибернетику, по крайней мере те ее положения, в которых утверждается принципиальная возможность создания мыслящих машин, как чью-то выдумку или неудачную шутку.
Кибернетика обвинялась во всех смертных грехах, начиная с ниспровержения незыблемых философских основ материалистической диалектики и кончая намерением лишить людей возможности размножаться "старым примитивным способом". Это последнее обстоятельство, кажется, волновало автора не меньше, чем первое. Разумеется, как и все ниспровергатели кибернетики, он высказал множество больших и маленьких несообразностей.
Нужно было отвечать. Редакция решила опубликовать статью Б. в дискуссионном порядке. Нас пригласили как старых знакомых: "Посоветуйте, кто мог бы выступить в этой дискуссии". Автор статьи нападал на академиков Колмогорова и Петрова, поэтому было неловко просить их написать ответ. Это выглядело бы как "самозащита". По счастью, в Москве оказался новосибирский ученый Сергей Львович Соболев - один из крупнейших наших математиков. По поручению редакции мы поехали к нему.
Пробежав глазами первые строки гранок статьи Б., Сергей Львович недоуменно посмотрел на нас:
- Послушайте, но это же совершенно ненаучно!
Конечно, мы не удивились такой реакции. В гранках встречалась, например, следующая, вполне апокалиптическая фраза: "...чего стоит стародавний боженька с его довольно наивными чудесами по сравнению с кибернетическим чудовищем, способным расплодиться, обнаглеть и поработить человечество".
Автора в конце концов уговорили снять весь абзац, в который входили эти слова, и на следующий день в газете они не появились. Но это лишь улучшило редакцию текста, позиция же автора не изменилась от такой купюры.
- Ну как можно полемизировать с Б.?-сказал Сергей Львович.- Тут просто не поймешь, кто пишет - доктор филологии или доктор теологии? Снова тот же глубокомысленный вопрос: сколько чертей помещается на острие иглы? Всяким сомнениям в принципиальной возможности создания искусственных разумных существ давно уже пора стать достоянием истории, а автор статьи жалуется, что такие сомнения мы, кибернетики, объявляем "невежественными и вредными". Но они сегодня действительно невежественны и поэтому - будучи высказаны в печатном виде - вредны!
- Вот потому и нельзя оставлять эту статью без ответа,- сказал Глеб, памятуя поручение редакции.
- Но какой же может быть ответ? - спросил Соболев. "Товарищи, вы это серьезно?" - спрашивает Б. Да, это вполне серьезно! Вот и все, что можно сказать.
- "Да, это вполне серьезно",- отличное название для статьи! - сказал Борис.
- И потом необходимо разбить псевдофилософский базис, который Б. пытается подвести под свои высказывания,- продолжал гнуть нашу линию Глеб.
Соболев усмехнулся:
- Какой уж тут "базис"!.. Просто игра терминами. Как это понять - "отождествление сознания с механизмом мозга"? Уж кто-кто, а кибернетики в этом не грешны. А что такое "мышление вне мозга"? Если речь идет о человеке, то он, действительно, не может мыслить без мозга. Но кто может помешать нам создать аппарат, подобный мозгу, который будет мыслить без человека? Не верить в это - значит верить в бога. Либо все в природе подчиняется объективным законам и со временем может быть познано, а значит, и смоделировано, либо мыслящие существа- это чудо господне! Есть только два пути: или пытаться познать тайны мышления, или надеть рясу и бить земные поклоны.
Сергей Львович еще раз просмотрел гранки и возмущенно сказал:
- Что ни слово - недоразумение. "Искусственный, механический способ создания живых существ". Механический- это какой? С помощью зубила и молотка? А химический способ? Он - механический или нет? И как можно разделить мир на искусственный и естественный? Все, что мы делаем,- "искусственно". Но оно, это искусственное, создается из материалов, которые дает природа. И создается по законам природы, открытым физикой, химией, биологией и другими науками. Но по этим же законам, из этих же материалов создано и все "естественное". Забавно, почему это вашего автора так нервирует сама мысль о машинах, "производящих себе подобных". То его страшит, как бы кто-нибудь не помешал ему "размножаться обычным порядком", то вдруг ему кажется, будто его хотят заставить обнимать макет мужчины или женщины - пластмассовый или иной. Вообще, будущее в этом плане мерещится ему в виде "электронной Галатеи с походкой шагающего экскаватора". В том-то, видимо, и беда Б., что, как мне кажется, в его представлении машина - это всегда экскаватор и ничего больше.
Академик Соболев снова заглянул в гранки и снова не сдержал своего негодования:
- И потом здесь, что ни фраза - ошибка. Как это "никто не утверждает, что она (машина то есть) сыграла бы с Михаилом Ботвинником лучше, чем это получилось во втором матче у Михаила Таля?" Я именно это и утверждаю! Самообучающийся шахматный автомат сможет очень скоро обогнать любого шахматиста - это непреложный факт. И, главное, откуда это непрестанное противопоставление человека машине? Человек и есть машина, но только самая совершенная из известных нам до сих пор. Да я и не открываю здесь никаких Америк: еще Павлов в своем знаменитом "Ответе физиолога психологам"-помните?- писал, что человек - это машина, но в горизонте нашего современного научного видения единственная по высочайшему саморегулированию... Неправда, наконец, и другое. Неправда, что в искусстве нет никаких правил. Наоборот, мы их находим и изучаем. Нет, тут совершенно не на что отвечать, всякая полемика бессмысленна, никакой статьи у меня не получится...
Сергей Львович решительно отбросил гранки в сторону, и нам стало совершенно очевидно: ответ будет! Статья академика Соболева действительно появилась в газете на той же неделе. Она, кстати говоря, так и была названа: "Да, это вполне серьезно". Было приятно сознавать, что ее рождение происходило f нас на глазах, когда мы беседовали с Сергеем Львовичем. Но именно эта беседа и нанесла такой неожиданный и сильный удар по нашему закону. Во время нее попутно выяснилось, что Соболев - ученый, безусловно причастный к кибернетике,- с искусством совершенно не связан творчески. Оно лежит вне круга его непосредственных занятий и интересов. И тут нам стало ясно: до сих пор мы сами себя водили за нос. Мы подбирали лишь те факты, которые подтверждали наш закон, а противоречащие ему просто не желали замечать. Иначе чем же объяснить, что нам сразу же не пришло в голову: академик Аксель Иванович Берг, насколько это известно, тоже не имеет, так сказать, "делового контакта" ни с одним из видов искусства? А ведь без его имени любой разговор о кибернетике был бы неполным.
Наш "главный закон кибернетиков" погибал у нас на глазах. Значит, не удалось нам найти общую для всех кибернетиков черту. И все-таки мы чувствовали: она существует! Есть нечто чрезвычайно важное, связывающее всех, кто занимается этой наукой. Оно, это "нечто", определяется самими свойствами кибернетики - ее стремлением проникать повсюду, нанизывать все науки на обруч аналогий, в самых несхожих явлениях находить общее, свое, кибернетическое...
Мы чувствовали, что в чем-то были правы. И решили: сдаваться еще рано.
Выход из создавшегося тупика нашелся как всегда неожиданно. Однажды поздно вечером у Глеба дома зазвонил телефон.
- Ты понимаешь, я его нащупал. Нащупал! - раздался в трубке голос Бориса.
- Что нащупал?
- Да наш закон. Дело ведь вот в чем: они, кибернетики, не знают преград для своей мысли! Не знают и знать не хотят. Они не боятся додумывать, не обрывают себя на полуслове: "дальше нельзя!" Вот и Соболев - он, как Колмогоров, доводит свою мысль до самого конца и не боится полученных выводов. А Винер? Увидел, что человек - близкий родственник машине и не испугался кажущейся абсурдности этой аналогии, нашел смелость продумать ее до конца - и создал кибернетику! Ты понял теперь, что у них, у всех есть общего?
Глеб понял. Все-таки не так уж оно и плохо - размышлять вдвоем.
Вспоминая нашу первую встречу с Винером, мы пришли теперь к мысли, что, как ни парадоксально это звучит, он теперь не столь последовательный кибернетик, как Колмогоров или Соболев. Он уже не рискует ставить все точки над всеми "i", доводить свои мысли о кибенеретике до логического завершения. Это, впрочем, естественно - эстафетную палочку науки никто ведь не несет в одиночку. Важно только, чтобы на каждом новом этапе она попадала в надежные руки.
Вот и вся история нашего "закона".
С тех пор у нас было немало интересных встреч, и каждая служила новым подтверждением его правильности.
* * *
Уже здесь, в Киеве, в лаборатории биокибернетики, мы беседовали с Кириллом Александровичем Ивановым-Муромским, человеком яркой биографии... Еще мальчишкой он твердо решил посвятить себя электрофизиологии. После школьных занятий бежал в университет - ставил опыты в лаборатории... Потом пришла война. Пока эвакуировался в теплушке на Урал, написал целый труд о повышении скорострельности пулеметов и послал его прямо в Академию наук. Предложенное им "сверхмощное оружие" делать не стали, но способного паренька взяли в Казани лаборантом в институт... Потом по призыву ЦК комсомола Украины поехал секретарем райкома на Одесщину - в глубинный район, за 60 километров от железной дороги. Было много работы - комсомольской, партийной, газетной... Но страсть к науке не проходила. В сельской больнице вместе со старым земским врачом установил нужное оборудование для лечебной электрофизиологии: "где купил, где выпросил, где просто взял без отдачи". В 1954 году стал впервые применять электросон по методу Гиляровского - тогда это было новинкой даже для лучших городских клиник. Через три года Иванов-Муромский докладывал о своем успешном опыте на всесоюзной конференции... К этому времени он окончил заочно биофак университета, и Николай Михайлович Амосов, известный хирург и ученый-медик, пригласил Кирилла Александровича к себе, в Киев, во вновь создаваемую лабораторию биокибернетики...
Мы слушали этот рассказ и, конечно, понимали, что перед нами человек редкой, отнюдь не ординарной биографии. Но в голову приходили мысли совсем о другом.
Когда на рассвете Возрождения ученый решился скальпелем вскрыть человеческое тело, сколько научной - и просто человеческой - смелости потребовало это! Сама попытка объяснить строение живого организма без помощи божественного провидения казалась современникам первых анатомов кощунством. Это влекло за собой преследования, пытки и казни. Сегодня ученый-бионик, вооруженный сложнейшим математическим аппаратом и могучей техникой, вторгается уже в сферу высшей нервной деятельности человека. И это опять кажется нам, его современникам,- нет, конечно, не кощунством, но все-таки чем-то очень удивительным и как бы не вполне законным. И это снова - подвиг, снова мужество и глубокая вера во всемогущество науки. Нет, кибернетиков объединяет не необычность биографий. Наука, которой они служат, требовательна: ей нужна не только энциклопедичность знаний, но и умение видеть общность мира во всех ее проявлениях, не только высокая отвага раскрепощенной мысли, но и - да не побоимся мы этих слов! - настоящая поэтическая окрыленность.
У нас есть свое определение кибернетики, не претендующее, правда, ни на какую научность. Кибернетика - это наука глубочайших аналогий и величайшей смелости. Это - наука увлеченных.
|
ПОИСК:
|
© Злыгостев А.С., 2001-2019
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://informaticslib.ru/ 'Библиотека по информатике'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://informaticslib.ru/ 'Библиотека по информатике'